 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Песнь четвертая
|
Читайте также: |
Первый уступ Предчистилища – Нерадивые
Когда одну из наших сил душевных[567]
Боль или радость поглотит сполна,
То, отрешась от прочих чувств вседневных,
Душа лишь этой силе отдана;
И тем опровержимо заблужденье,[568]
Что в нас душа пылает не одна.
Поэтому, как только слух иль зренье
К чему-либо всю душу обратит,
Забудется и времени теченье;

За ним одна из наших сил следит,
А душу привлекла к себе другая;
И эта связана, а та парит.[569]
Дивясь Манфреду и ему внимая,
Я в этом убедился без труда,
Затем что солнце было выше края
На добрых пятьдесят долей,[570] когда
Все эти души, там, где было надо,
Вскричали дружно: «Вам теперь сюда».
Подчас крестьянин в изгороди сада
Пошире щель заложит шипняком,
Когда темнеют гроздья винограда,
Чем оказался ход, куда вдвоем
Мой вождь и я за ним проникли с воли,
Оставив тех идти своим путем.
К Сан-Лео всходят и нисходят к Ноли,
И пеший след к Бисмантове ведет;[571]
А эту кручу крылья побороли, –
Я разумею окрыленный взлет
Великой жажды, вслед вождю, который
Дарил мне свет и чаянье высот.
Путь шел в утесе, тяжкий и нескорый;
Мы подымались между сжатых скал,
Для ног и рук ища себе опоры.
Когда мы вышли, как на плоский вал,
На верхний край стремнины оголенной:
«Куда идти, учитель?» – я сказал.
И он: «Иди стезею неуклонной
Все в гору вслед за мной, покуда нам
Не встретится водитель умудренный».
К вершине было не взнестись очам,
А склон был много круче полуоси,
Секущей четверть круга пополам.
Устав, я начал, медля на откосе:
«О мой отец, постой и оглянись,
Ведь я один останусь на утесе!»
А он: «Мой сын, дотуда дотянись!»
И указал мне на уступ над нами,
Который кругом опоясал высь.
И я, подстегнутый его словами,
Напрягся, чтобы взлезть хоть как-нибудь,
Пока на кромку не ступил ногами.
И здесь мы оба сели отдохнуть,
Лицом к востоку; путник ослабелый
С отрадой смотрит на пройденный путь.
Я глянул вниз, на берег опустелый,
Затем на небо, и не верил глаз,
Что солнце слева посылает стрелы.
Поэт заметил, как меня потряс
Нежданный вид, что колесница света
Загородила Аквилон[572] от нас.
«Будь Диоскуры, – молвил он на это, –
В соседстве с зеркалом, светящим так,
Что все кругом в его лучи одето,
Ты видел бы, что рдяный Зодиак
Еще тесней вблизи Медведиц кружит,
Пока он держит свой старинный шаг.[573]
Причину же твой разум обнаружит,
Когда себе представит, что Сион[574]
Горе, где мы, противоточьем служит;
И там, и здесь – отдельный небосклон,
Но горизонт один; и та дорога,
Где несчастливый правил Фаэтон,[575]
Должна лежать вдоль звездного чертога
Здесь – с этой стороны, а там – с другой,
Когда ты в этом разберешься строго».
«Впервые, – я сказал, – учитель мой,
Я вижу с ясностью столь совершенной
Казавшееся мне покрытым тьмой, –
Что средний круг вращателя вселенной,[576]
Или экватор, как его зовут,
Между зимой и солнцем неизменный,
По сказанной причине виден тут
К полночи, а еврейскому народу
Был виден к югу. Но, когда не в труд,
Поведай, сколько нам осталось ходу;
Так высока скалистая стена,
Что выше зренья всходит к небосводу».
И он: «Гора так мудро сложена,
Что поначалу подыматься трудно;
Чем дальше вверх, тем мягче крутизна.
Поэтому, когда легко и чудно
Твои шаги начнут тебя нести,
Как по теченью нас уносит судно,
Тогда ты будешь у конца пути.
Там схлынут и усталость, и забота.
Вот все, о чем я властен речь вести».
Чуть он умолк, вблизи промолвил кто-то:
«Пока дойдешь, не раз, да и не два,
Почувствуешь, что и присесть охота».
Мы, обернувшись на его слова,
Увидели левей валун огромный,
Который не заметили сперва.
Мы подошли; за ним в тени укромной
Расположились люди;[577] вид их был,
Как у людей, объятых ленью томной.
Один сидел как бы совсем без сил:
Руками он обвил свои колени
И голову меж ними уронил.
И я сказал при виде этой тени:
«Мой милый господин, он так ленив,
Как могут быть родные братья лени».
Он обернулся и, глаза скосив,
Поверх бедра взглянул на нас устало;
Потом сказал: «Лезь, если так ретив!»
Тут я узнал его; хотя дышала
Еще с трудом взволнованная грудь,
Мне это подойти не помешало.
Тогда он поднял голову чуть-чуть,
Сказав: «Ты разобрал, как мир устроен,
Что солнце влево может повернуть?»
Поистине улыбки был достоин
Его ленивый вид и вялый слог.
Я начал так: «Белаква,[578] я спокоен
За твой удел; но что тебе за прок
Сидеть вот тут? Ты ждешь еще народа
Иль просто впал в обычный свой порок?»
И он мне: «Брат, что толку от похода?
Меня не пустит к мытарствам сейчас
Господня птица, что сидит у входа,

Пока вокруг меня не меньше раз,
Чем в жизни, эта твердь свой круг опишет,
Затем что поздний вздох мне душу спас;
И лишь сердца, где милость божья дышит,
Могли бы мне молитвами помочь.
В других – что пользы? Небо их не слышит».
А между тем мой спутник, идя прочь,
Звал сверху: «Где ты? Солнце уж высоко
И тронуло меридиан, а ночь
У берега ступила на Моррокко».[579]
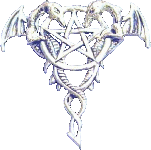
Песнь пятая
Второй уступ Предчистилища – Нерадивые, умершие насильственною смертью
Вослед вождю, послушливым скитальцем,
Я шел от этих теней все вперед,
Когда одна, указывая пальцем,
Вскричала: «Гляньте, слева луч нейдет
От нижнего, да и по всем приметам
Он словно как живой себя ведет!»
Я обратил глаза при слове этом
И увидал, как изумлен их взгляд
Мной, только мной и рассеченным светом.

«Ужель настолько, чтоб смотреть назад, –
Сказал мой вождь, – они твой дух волнуют?
Не все ль равно, что люди говорят?
Иди за мной, и пусть себе толкуют!
Как башня стой, которая вовек
Не дрогнет, сколько ветры ни бушуют!
Цель от себя отводит человек,
Сменяя мысли каждое мгновенье:
Дав ход одной, другую он пресек».
Что мог бы я промолвить в извиненье?
«Иду», – сказал я, краску чуя сам,
Дарующую иногда прощенье.
Меж тем повыше, идя накрест нам,
Толпа людей на склоне появилась
И пела «Miserere»[580], по стихам.
Когда их зренье точно убедилось,
Что сила света сквозь меня не шла,
Их песнь глухим и долгим «О!» сменилась.
И тотчас двое, как бы два посла,
Сбежали к нам спросить: «Скажите, кто вы,
И участь вас какая привела?»
И мой учитель: «Мы сказать готовы,
Чтоб вы могли поведать остальным,
Что этот носит смертные покровы.
И если их смутила тень за ним,
То все объяснено таким ответом:
Почтенный ими, он поможет им».
Я не видал, чтоб в сумраке нагретом
Горящий пар[581] быстрей прорезал высь
Иль облака заката поздним летом,
Чем те наверх обратно поднялись;
И тут на нас помчалась вся их стая,
Как взвод несется, ускоряя рысь.
«Сюда их к нам валит толпа густая,
Чтобы тебя просить, – сказал поэт. –
Иди все дальше, на ходу внимая».
«Душа, идущая в блаженный свет
В том образе, в котором в жизнь вступала,
Умерь свой шаг! – они кричали вслед. –
Взгляни на нас: быть может, нас ты знала
И весть прихватишь для земной страны?
О, не спеши так! Выслушай сначала!
Мы были все в свой час умерщвлены
И грешники до смертного мгновенья,
Когда, лучом небес озарены,
Покаялись, простили оскорбленья
И смерть прияли в мире с божеством,
Здесь нас томящим жаждой лицезренья».
И я: «Из вас никто мне не знаком;
Чему, скажите, были бы вы рады,
И я, по мере сил моих, во всем
Готов служить вам, ради той отрады,
К которой я, по следу этих ног,
Из мира в мир иду сквозь все преграды».
Один сказал: «К чему такой зарок?
В тебе мы верим доброму желанью,
И лишь бы выполнить его ты мог!
Я, первый здесь взывая к состраданью,
Прошу тебя: когда придешь к стране,
Разъявшей землю Карла и Романью,
И будешь в Фано, вспомни обо мне,
Чтоб за меня воздели к небу взоры,
Дабы я мог очиститься вполне.
Я сам оттуда; но удар, который
Дал выход крови, где душа жила,
Я встретил там, где властны Антеноры[582]
И где вовеки я не чаял зла;
То сделал Эсте, чья враждебность шире
Пределов справедливости была.
Когда бы я бежать пустился к Мире[583],
В засаде под Орьяко очутясь,
Я до сих пор дышал бы в вашем мире,
Но я подался в камыши и грязь;
Там я упал; и видел, как в трясине
Кровь жил моих затоном разлилась».[584]
Затем другой: «О, да взойдешь к вершине,
Надежду утоленную познав,
И да не презришь и мою отныне!
Я был Бонконте, Монтефельтрский граф.
Забытый всеми, даже и Джованной[585],
Я здесь иду среди склоненных глав».
И я: «Что значил этот случай странный,
Что с Кампальдино ты исчез тогда
И где-то спишь в могиле безымянной?»[586]
«О! – молвил он. – Есть горная вода,
Аркьяно;[587] ею, вниз от Камальдоли,
Изрыта Казентинская гряда.
Туда, где имя ей не нужно боле,[588]
Я, ранен в горло, идя напрямик,
Пришел один, окровавляя поле.
Мой взор погас, и замер мой язык
На имени Марии; плоть земная
Осталась там, где я к земле поник.
Знай и поведай людям: ангел Рая
Унес меня, и ангел адских врат
Кричал: «Небесный! Жадность-то какая!
Ты вечное себе присвоить рад
И, пользуясь слезинкой, поживиться;
Но прочего меня уж не лишат!»[589]
Ты знаешь сам, как в воздухе клубится
Пар, снова истекающий водой,
Как только он, поднявшись, охладится.
Ум сочетая с волей вечно злой
И свой природный дар пуская в дело,
Бес двинул дым и ветер над землей.
Долину он, как только солнце село,
От Пратоманьо до большой гряды[590]
Покрыл туманом; небо почернело,
И воздух стал тяжелым от воды;
Пролился дождь, стремя по косогорам
Все то, в чем почве не было нужды,
Потоками свергаясь в беге скором
К большой реке,[591] переполняя дол
И все сметая бешеным напором.
Мой хладный труп на берегу нашел
Аркьяно буйный; как обломок некий,
Закинул в Арно; крест из рук расплел,
Который я сложил, смыкая веки:
И, мутною обвив меня волной,
Своей добычей[592] придавил навеки».
«Когда ты возвратишься в мир земной
И тягости забудешь путевые, –
Сказала третья тень вослед второй, –
То вспомни также обо мне, о Пии!
Я в Сьене жизнь, в Маремме смерть нашла,
Как знает тот, кому во дни былые
Я, обручаясь, руку отдала».[593]
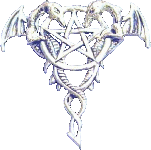
Песнь шестая
Второй уступ Предчистилища (окончание)
Когда кончается игра в три кости,
То проигравший снова их берет
И мечет их один, в унылой злости;
Другого провожает весь народ;
Кто спереди зайдет, кто сзади тронет,
Кто сбоку за себя словцо ввернет.
А тот идет и только ухо клонит;
Подаст кому, – идти уже вольней,
И так он понемногу всех разгонит.
Таков был я в густой толпе теней,
Чье множество казалось превелико,
И, обещая, управлялся с ней.
Там аретинец был, чью жизнь так дико
Похитил Гин ди Такко;[594] рядом был
В погоне утонувший;[595] Федерико
Новелло,[596] руки протянув, молил;
И с ним пизанец, некогда явивший
В незлобивом Марцукко столько сил;[597]
Граф Орсо[598] был средь них; был дух, твердивший,
Что он враждой и завистью убит,
Его безвинно с телом разлучившей, –
Пьер де ла Бросс; брабантка пусть спешит,
Пока жива, с молитвами своими,
Не то похуже стадо ей грозит.[599]
Когда я, наконец, расстался с ними,
Просившими, чтобы просил другой,
Дабы скорей им сделаться святыми,
Я начал так: «Я помню, светоч мой,
Ты отрицал, в стихе, тобою спетом,[600]
Что суд небес смягчается мольбой;
А эти люди просят лишь об этом.
Иль их надежда тщетна, или мне
Твои слова не озарились светом?»
Он отвечал: «Они ясны вполне,
И этих душ надежда не напрасна,
Когда мы трезво поглядим извне.
Вершина правосудия согласна,
Чтоб огнь любви[601] мог уничтожить вмиг
Долг, ими здесь платимый повсечасно.
А там, где стих мой у меня возник,[602]
Молитва не служила искупленьем,
И звук ее небес бы не достиг.
Но не смущайся тягостным сомненьем:
Спроси у той, которая прольет
Свет между истиной и разуменьем.
Ты понял ли, не знаю: речь идет
О Беатриче. Там, на выси горной,
Она с улыбкой, радостная, ждет».
И я: «Идем же поступью проворной;
Уже и сам я меньше утомлен,
А видишь – склон оделся тенью черной».
«Сегодня мы пройдем, – ответил он, –
Как можно больше; много – не придется,
И этим ты напрасно обольщен.
Пока взойдешь, не раз еще вернется
Тот, кто сейчас уже горой закрыт,
Так что и луч вокруг тебя не рвется.
Но видишь – там какой-то дух сидит,
Совсем один, взирая к нам безгласно;
Он скажет нам, где краткий путь лежит».
Мы шли к нему. Как гордо и бесстрастно
Ты ждал, ломбардский дух,[603] и лишь едва
Водил очами, медленно и властно!
Он про себя таил свои слова,
Нас, на него идущих озирая
С осанкой отдыхающего льва.
Вождь подошел к нему узнать, какая
Удобнее дорога к вышине;
Но он, на эту речь не отвечая –
Спросил о нашей жизни и стране.
Чуть «Мантуя…» успел сказать Вергилий,
Как дух, в своей замкнутый глубине,
P73
Встал, и уста его проговорили:
«О мантуанец, я же твой земляк,
Сорделло!» И они объятья слили.
Италия, раба, скорбей очаг,
В великой буре судно без кормила,
Не госпожа народов, а кабак!
Здесь доблестной душе довольно было
Лишь звук услышать милой стороны,
Чтобы она сородича почтила;
А у тебя не могут без войны
Твои живые, и они грызутся,
Одной стеной и рвом окружены.
Тебе, несчастной, стоит оглянуться
На берега твои и города:
Где мирные обители найдутся?
К чему тебе подправил повода
Юстиниан, когда седло пустует?
Безуздой, меньше было бы стыда.[604]
О вы, кому молиться долженствует,
Так чтобы Кесарь не слезал с седла,
Как вам господне слово указует, –
Вы видите, как эта лошадь зла,
Уже не укрощаемая шпорой
С тех пор, как вы взялись за удила?[605]
И ты, Альберт немецкий,[606] ты, который
Был должен утвердиться в стременах,
А дал ей одичать, – да грянут скорой
И правой карой звезды в небесах
На кровь твою, как ни на чью доселе,
Чтоб твой преемник ведал вечный страх!
Затем что ты и твой отец терпели,
Чтобы пустынней стал имперский сад,[607]
А сами, сидя дома, богатели.
Приди, беспечный, кинуть только взгляд:
Мональди, Филиппески, Каппеллетти,
Монтекки, – те в слезах, а те дрожат!
Приди, взгляни на знать свою, на эти
Насилия, которые мы зрим,
На Сантафьор[608] во мраке лихолетий!
Приди, взгляни, как сетует твой Рим,
Вдова, в слезах зовущая супруга:
«Я Кесарем покинута моим!»
Приди, взгляни, как любят все друг друга!
И, если нас тебе не жаль, приди
Хоть устыдиться нашего недуга!
И, если смею, о верховный Дий,[609]
За род людской казненный казнью крестной,
Свой правый взор от нас не отводи!
Или, быть может, в глубине чудесной
Твоих судеб ты нам готовишь клад
Великой радости, для нас безвестной?
Ведь города Италии кишат
Тиранами, и в образе клеврета[610]
Любой мужик пролезть в Марцеллы[611] рад.
Флоренция моя, тебя все это
Касаться не должно, ты – вдалеке,
В твоем народе каждый – муж совета!
У многих правда – в сердце, в тайнике,
Но необдуманно стрельнуть – боятся;
А у твоих она на языке
Иные общим делом тяготятся;
А твой народ, участливый к нему,
Кричит незваный: «Я согласен взяться!»
Ликуй же ныне, ибо есть чему:
Ты мирна, ты разумна, ты богата!
А что я прав, то видно по всему.
И Спарта, и Афины, где когда-то
Гражданской правды занялась заря,
Перед тобою – малые ребята:
Тончайшие уставы мастеря,
Ты в октябре примеришь их, бывало,
И сносишь к середине ноября.
За краткий срок ты сколько раз меняла
Законы, деньги, весь уклад и чин
И собственное тело обновляла!
Опомнившись хотя б на миг один,
Поймешь сама, что ты – как та больная,
Которая не спит среди перин,
Ворочаясь и отдыха не зная.
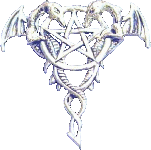
Песнь седьмая
Долина земных властителей
И трижды, и четырежды успело
Приветствие возникнуть на устах,
Пока не молвил, отступив, Сорделло:
«Вы кто?» – «Когда на этих высотах
Достойные спастись еще не жили,
Октавиан[612] похоронил мой прах.
Без правой веры был и я, Вергилий,
И лишь за то утратил вечный свет».
Так на вопрос слова вождя гласили.

Как тот, кто сам не знает – явь иль бред
То дивное, что перед ним предстало,
И, сомневаясь, говорит: «Есть… Нет…» –
Таков был этот; изумясь сначала,
Он взор потупил и ступил вперед
Обнять его, как низшему пристало.
«О свет латинян, – молвил он, – о тот,
Кто нашу речь вознес до полной власти,
Кто город мой почтил из рода в род,
Награда мне иль милость в этом счастье?
И если просьбы мне разрешены,
Скажи: ты был в Аду? в которой части?»
«Сквозь все круги отверженной страны, –
Ответил вождь мой, – я сюда явился;
От неба силы были мне даны.
Не делом, а неделаньем лишился[613]
Я Солнца, к чьим лучам стремишься ты;
Его я поздно ведать научился.[614]
Есть край внизу,[615] где скорбь – от темноты,
А не от мук, и в сумраках бездонных
Не возгласы, а вздохи разлиты.
Там я, – среди младенцев, уязвленных
Зубами смерти в свете их зари,
Но от людской вины не отрешенных;
Там я, – средь тех, кто не облекся в три
Святые добродетели и строго
Блюл остальные, их нося внутри.[616]
Но как дойти скорее до порога
Чистилища? Не можешь ли ты нам
Дать указанье, где лежит дорога?»
И он: «Скитаться здесь по всем местам,
Вверх и вокруг, я не стеснен нимало.
Насколько в силах, буду спутник вам.
Но видишь – время позднее настало,
А ночью вверх уже нельзя идти;
Пора наметить место для привала.
Здесь души есть направо по пути,
Которые тебе утешат очи,
И я готов тебя туда свести».
«Как так? – ответ был. – Если кто средь ночи
Пойдет наверх, ему не даст другой?
Иль просто самому не станет мочи?»
Сорделло по земле черкнул рукой,
Сказав: «Ты видишь? Стоит солнцу скрыться,
И ты замрешь пред этою чертой;
Причем тебе не даст наверх стремиться
Не что другое, как ночная тень;
Во тьме бессильем воля истребится.
Но книзу, со ступени на ступень,
И вкруг горы идти легко повсюду,
Пока укрыт за горизонтом день».
Мой вождь внимал его словам, как чуду,
И отвечал: «Веди же нас туда,
Где ты сказал, что я утешен буду».
Мы двинулись в дорогу, и тогда
В горе открылась выемка, такая,
Как здесь в горах бывает иногда.
«Войдем туда, – сказала тень благая, –
Где горный склон как бы раскрыл врата,
И там пробудем, утра ожидая».
Тропинка, не ровна и не крута,
Виясь, на край долины приводила,
Где меньше половины высота.[617]
Сребро и злато, червлень и белила,
Отколотый недавно изумруд,
Лазурь и дуб-светляк превосходило
Сияние произраставших тут
Трав и цветов и верх над ними брало,
Как большие над меньшими берут.
Природа здесь не только расцвечала,
Но как бы некий непостижный сплав
Из сотен ароматов создавала.
«Salve, Regina,»[618] – меж цветов и трав
Толпа теней,[619] внизу сидевших, пела,
Незримое убежище избрав.
«Покуда солнце все еще не село, –
Наш мантуанский спутник нам сказал, –
Здесь обождать мы с вами можем смело.
Вы разглядите, став на этот вал,
Отчетливей их лица и движенья,
Чем если бы их сонм вас окружал.
Сидящий выше, с видом сокрушенья
О том, что он призваньем пренебрег,
И губ не раскрывающий для пенья, –
Был кесарем Рудольфом, и он мог
Помочь Италии воскреснуть вскоре,[620]
А ныне этот час опять далек.[621]
Тот, кто его ободрить хочет в горе,
Царил в земле, где воды вдоль дубрав
Молдава в Лабу льет, а Лаба в море.
То Оттокар; он из пелен не встав,
Был доблестней, чем бороду наживший
Его сынок, беспутный Венцеслав.[622]
И тот курносый, в разговор вступивший
С таким вот благодушным добряком,
Пал, как беглец, честь лилий омрачивший.
И как он в грудь колотит кулаком!
А этот, щеку на руке лелея,
Как на постели, вздохи шлет тайком.
Отец и тесть французского злодея,
Они о мерзости его скорбят,
И боль язвит их, в сердце пламенея.[623]
А этот кряжистый, поющий в лад
С тем носачом, смотрящим величаво,
Был опоясан, всем, что люди чтят.[624]
И если бы в руках была держава
У юноши[625], сидящего за ним,
Из чаши в чашу перешла бы слава,
Которой не хватило остальным:
Хоть воцарились Яков с Федериком,
Все то, что лучше, не досталось им.[626]
Не часто доблесть, данная владыкам,
Восходит в ветви; тот ее дарит,
Кто может все в могуществе великом.
Носач изведал так же этот стыд,
Как с ним поющий Педро знаменитый:
Прованс и Пулья стонут от обид.[627]
Он выше был, чем отпрыск, им отвитый,
Как и Костанца мужем пославней,
Чем были Беатриче с Маргеритой.[628]
А вот смиреннейший из королей,
Английский Генрих, севший одиноко;
Счастливее был рост его ветвей.[629]

Там, ниже всех, где дол лежит глубоко,
Маркиз Гульельмо подымает взгляд;
Алессандрия за него жестоко
Казнила Канавез и Монферрат».[630]
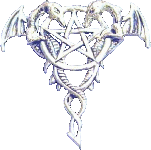
Песнь восьмая
Долина земных властителей (продолжение)
В тот самый час, когда томят печали
Отплывших вдаль и нежит мысль о том,
Как милые их утром провожали,
А новый странник на пути своем
Пронзен любовью, дальний звон внимая,
Подобный плачу над умершим днем, –
Я начал, слух невольно отрешая,[631]
Следить, как средь теней встает одна,
К вниманью мановеньем приглашая.
Сложив и вскинув кисти рук, она
Стремила взор к востоку и, казалось,
Шептала богу: «Я одним полна».
«Te lucis ante»,[632] – с уст ее раздалось
Так набожно, и так был нежен звук,
Что о себе самом позабывалось.
И, набожно и нежно, весь их круг
С ней до конца исполнил песнопенье,
Взор воздымая до верховных дуг.[633]
Здесь в истину вонзи, читатель, зренье;
Покровы так прозрачны, что сквозь них
Уже совсем легко проникновенье.[634]
Я видел: сонм властителей земных,
С покорно вознесенными очами,
Как в ожиданье, побледнев, затих.
И видел я: два ангела, над нами
Спускаясь вниз, держали два клинка,
Пылающих, с неострыми концами.
И, зеленее свежего листка,
Одежда их, в ветру зеленых крылий,
Вилась вослед, волниста и легка.
Один слетел чуть выше, чем мы были,
Другой – на обращенный к нам откос,
И так они сидевших окаймили.
Я различал их русый цвет волос,
Но взгляд темнел, на лицах их почия,
И яркости чрезмерной я не снес.
«Они сошли из лона, где Мария, –
Сказал Сорделло, – чтобы дол стеречь,
Затем что близко появленье змия».
И я, не зная, как себя беречь,
Взглянул вокруг и поспешил укрыться,
Оледенелый, возле верных плеч.
И вновь Сорделло: «Нам пора спуститься
И славным теням о себе сказать;
Им будет радость с вами очутиться».
Я, в три шага, ступил уже на гладь;
И видел, как одна из душ взирала
Все на меня, как будто чтоб узнать.
Уже и воздух почернел немало,
Но для моих и для ее очей
Он все же вскрыл то, что таил сначала.
Она ко мне подвинулась, я – к ней.
Как я был счастлив, Нино благородный,[635]
Тебя узреть не между злых теней!
Приветствий дань была поочередной;
И он затем: «К прибрежью под горой
Давно ли ты приплыл пустыней водной?»
«О, – я сказал, – я вышел пред зарей
Из скорбных мест и жизнь влачу земную,
Хоть, идя так, забочусь о другой».
Из уст моих услышав речь такую,
Он и Сорделло подались назад,
Дивясь тому, о чем я повествую.
Один к Вергилию направил взгляд,
Другой – к сидевшим, крикнув: «Встань, Куррадо[636]!
Взгляни, как бог щедротами богат!»
Затем ко мне: «Ты, избранное чадо,
К которому так милостив был тот,
О чьих путях и мудрствовать не надо, –
Скажи в том мире, за простором вод,
Чтоб мне моя Джованна[637] пособила
Там, где невинных верный отклик ждет.
Должно быть, мать ее меня забыла,
Свой белый плат носив недолгий час,
А в нем бы ей, несчастной, лучше было.[638]
Ее пример являет напоказ,
Что пламень в женском сердце вечно хочет
Глаз и касанья, чтобы он не гас.
И не такое ей надгробье прочит
Ехидна, в бой ведущая Милан,
Какое создал бы галлурский кочет».[639]
Так вел он речь, и взор его и стан
Несли печать горячего порыва,
Которым дух пристойно обуян.
Мои глаза стремились в твердь пытливо,
Туда, где звезды обращают ход,
Как сердце колеса, неторопливо.
И вождь: «О сын мой, что твой взор влечет?»
И я ему: «Три этих ярких света,
Зажегшие вкруг остья небосвод».
И он: «Те, что ты видел до рассвета,
Склонились, все четыре, в должный срок;
На смену им взошло трехзвездье это».[640]
Сорделло вдруг его к себе привлек,
Сказав: «Вот он! Взгляни на супостата!» –
И указал, чтоб тот увидеть мог.
Там, где стена расселины разъята,
Была змея, похожая на ту,
Что Еве горький плод дала когда-то.
В цветах и травах бороздя черту,
Она порой свивалась, чтобы спину
Лизнуть, как зверь наводит красоту.
Не видев сам, я речь о том откину,
Как тот и этот горний ястреб взмыл;
Я их полет застал наполовину.
Едва заслыша взмах зеленых крыл,
Змей ускользнул, и каждый ангел снова
Взлетел туда же, где он прежде был.
А тот, кто подошел к нам после зова
Судьи, все это время напролет
Следил за мной и не промолвил слова.
«Твой путеводный светоч да найдет, –
Он начал, – нужный воск в твоей же воле,
Пока не ступишь на финифть высот!
Когда ты ведаешь хоть в малой доле
Про Вальдимагру и про те края,
Подай мне весть о дедовском престоле.
Куррадо Маласпина звался я;
Но Старый – тот другой, он был мне дедом;[641]
Любовь к родным светлеет здесь моя».
«О, – я сказал, – мне только по беседам
Знаком ваш край; но разве угол есть
Во всей Европе, где б он не был ведом?
Ваш дом стяжал заслуженную честь,
Почет владыкам и почет державе,
И даже кто там не был, слышал весть.
И, как стремлюсь к вершине, так я вправе
Сказать: ваш род, за что ему хвала,
Кошель и меч в старинной держит славе.
В нем доблесть от привычки возросла,
И, хоть с пути дурным главой[642] все сбито,
Он знает цель и сторонится зла».
И тот: «Иди; поведаю открыто,
Что солнце не успеет лечь семь раз
Там, где Овен расположил копыта,
Как это мненье лестное о нас
Тебе в средину головы вклинится
Гвоздями, крепче, чем чужой рассказ,
Раз приговор не может не свершиться».[643]
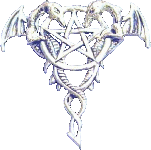
Песнь девятая
Долина земных властителей (окончание) – Врата Чистилища
Наложница старинного Тифона
Взошла белеть на утренний помост,
Забыв объятья друга, и корона
На ней сияла из лучистых звезд,
С холодным зверем сходная чертами,
Который бьет нас, изгибая хвост;[644]
И ночь означила двумя шагами
В том месте, где мы были, свой подъем,
И даже третий поникал крылами,[645]

Когда, с Адамом в существе своем,[646]
Я на траву склонился, засыпая,
Там, где мы все сидели впятером[647].
В тот час, когда поет, зарю встречая,
Касатка, и напев ее тосклив,
Как будто скорбь ей памятна былая,[648]
И разум наш, себя освободив
От дум и сбросив тленные покровы,
Бывает как бы веще прозорлив,
Мне снилось – надо мной орел суровый
Навис, одетый в золотистый цвет,
Распластанный и ринуться готовый,
И будто бы я там, где Ганимед,
Своих покинув, дивно возвеличен,
Восхищен был в заоблачный совет.[649]
Мне думалось: «Быть может, он привычен
Разить лишь тут, где он настиг меня,
А иначе к добыче безразличен».
Меж тем, кругами землю осеня,
Он грозовым перуном опустился
И взмыл со мной до самого огня.[650]
И тут я вместе с ним воспламенился;
И призрачный пожар меня палил
С такою силой, что мой сон разбился.
Не меньше вздрогнул некогда Ахилл,
Водя окрест очнувшиеся веки
И сам не зная, где он их раскрыл,
Когда он от Хироновой опеки
Был матерью на Скир перенесен,
Хотя и там его настигли греки,[651] –
Чем вздрогнул я, когда покинул сон
Мое лицо; я побледнел и хладом
Пронизан был, как тот, кто устрашен.
Один Вергилий был со мною рядом,
И третий час сияла солнцем высь,
И море расстилалось перед взглядом.
Мой господин промолвил: «Не страшись!
Оставь сомненья, мы уже у цели;
Не робостью, но силой облекись!
Мы, наконец, Чистилище узрели:
Вот и кругом идущая скала,
А вот и самый вход, подобный щели.
Когда заря была уже светла,
А ты дремал душой, в цветах почия
Среди долины, женщина пришла,
И так она сказала: «Я Лючия;
Чтобы тому, кто спит, помочь верней,
Его сама хочу перенести я».
И от Сорделло и других теней
Тебя взяла и, так как солнце встало,
Пошла наверх, и я вослед за ней.
И, здесь тебя оставив, указала
Прекрасными очами этот вход;
И тотчас ни ее, ни сна не стало».[652]
Как тот, кто от сомненья перейдет
К познанью правды и, ее оплотом
Оборонясь, решимость обретет,
Так ожил я; и, видя, что заботам
Моим конец, вождь на крутой откос
Пошел вперед, и я за ним – к высотам.

Ты усмотрел, читатель, как вознес
Я свой предмет; и поневоле надо,
Чтоб вместе с ним и я в искусстве рос.
Мы подошли, и, где сперва для взгляда
В скале чернела только пустота,
Как если трещину дает ограда,
Я увидал перед собой врата,
И три больших ступени, разных цветом,
И вратника, сомкнувшего уста.
Сидел он, как я различил при этом,
Над самой верхней, чтобы вход стеречь,
Таков лицом, что я был ранен светом.
В его руке был обнаженный меч,
Где отраженья солнца так дробились,
Что я глаза старался оберечь.
«Скажите с места: вы зачем явились? –
Так начал он. – Кто вам дойти помог?
Смотрите, как бы вы не поплатились!»
«Жена с небес, а ей знаком зарок, –
Сказал мой вождь, – явив нам эти сени,
Промолвила: «Идите, вот порог».
«Не презрите благих ее велений! –
Нас благосклонный вратарь пригласил. –
Придите же подняться на ступени».
Из этих трех уступов первый был
Столь гладкий и блестящий мрамор белый,
Что он мое подобье отразил;
Второй – шершавый камень обгорелый,
Растресканный и вдоль и поперек,
И цветом словно пурпур почернелый;
И третий, тот, который сверху лег, –
Кусок порфира, ограненный строго,
Огнисто-алый, как кровавый ток.
На нем стопы покоил вестник бога;
Сидел он, обращенный к ступеням,
На выступе алмазного порога.
Ведя меня, как я хотел и сам,
По плитам вверх, мне молвил мой вожатый:
«Проси смиренно, чтоб он отпер нам».
И я, благоговением объятый,
К святым стопам, моля открыть, упал,
Себя рукой ударя в грудь трикраты.
Семь Р[653] на лбу моем он начертал
Концом меча и: «Смой, чтобы он сгинул,
Когда войдешь, след этих ран», – сказал.
Как если б кто сухую землю вскинул
Иль разбросал золу, совсем такой
Был цвет его одежд. Из них он вынул
Ключи – серебряный и золотой;
И, белый с желтым взяв поочередно,
Он сделал с дверью чаемое мной.
«Как только тот иль этот ключ свободно
Не ходит в скважине и слаб нажим, –
Сказал он нам, – то и пытать бесплодно.
Один ценней; но чтоб владеть другим,
Умом и знаньем нужно изощриться,
И узел без него неразрешим.
Мне дал их Петр, веля мне ошибиться
Скорей впустив, чем отослав назад,
Тех, кто пришел у ног моих склониться».
Потом, толкая створ священных врат:
«Войдите, но запомните сначала,
Что изгнан тот, кто обращает взгляд».
В тот миг, когда святая дверь вращала
В своих глубоких гнездах стержни стрел
Из мощного и звонкого металла,
Не так боролся и не так гудел
Тарпей,[654] лишаясь доброго Метелла,
Которого утратив – оскудел.
Я поднял взор, когда она взгремела,
И услыхал, как сквозь отрадный гуд
Далекое «Те Deum»[655] долетело.

И точно то же получалось тут,
Что слышали мы все неоднократно,
Когда стоят и под орган поют,
И пение то внятно, то невнятно.
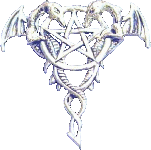
Песнь десятая
Чистилище – Круг первый – Гордецы
Тогда мы очутились за порогом,
Заброшенным из-за любви дурной,[656]
Ведущей души по кривым дорогам,
Дверь, загремев, захлопнулась за мной;
И, оглянись я на дверные своды,
Что б я сказал, подавленный виной?
Мы подымались в трещине породы,
Где та и эта двигалась стена,[657]
Как набегают, чтоб отхлынуть, воды.

Мой вождь сказал: «Здесь выучка нужна,
Чтоб угадать, какая в самом деле
Окажется надежней сторона».
Вперед мы подвигались еле-еле,
И скудный месяц, канув глубоко,
Улегся раньше на своей постеле,
Чем мы прошли игольное ушко.[658]
Мы вышли там,[659] где горный склон от края
Повсюду отступил недалеко,
Я – утомясь, и вождь и я – не зная,
Куда идти; тропа над бездной шла,
Безлюднее, чем колея степная.
От кромки, где срывается скала,
И до стены, вздымавшейся высоко,
Она в три роста шириной была.
Докуда крылья простирало око,
Налево и направо, – весь извив
Дороги этой шел равно широко.
Еще вперед и шагу не ступив,
Я, озираясь, убедился ясно,
Что весь белевший надо мной обрыв
Был мрамор, изваянный так прекрасно,
Что подражать не только Поликлет[660],
Но и природа стала бы напрасно.[661]
Тот ангел, что земле принес обет
Столь слезно чаемого примиренья
И с неба вековечный снял завет,
Являлся нам в правдивости движенья
Так живо, что ни в чем не походил
На молчаливые изображенья.
Он, я бы клялся, «Ave!»[662] говорил
Склонившейся жене благословенной,
Чей ключ любовь в высотах отворил.
В ее чертах ответ ее смиренный,
«Ессе ancilla Dei»,[663] был ясней,
Чем в мягком воске образ впечатленный.[664]
«В такой недвижности не цепеней!» –
Сказал учитель мой, ко мне стоявший
Той стороной, где сердце у людей.
Я, отрывая взгляд мой созерцавший,
Увидел за Марией, в стороне,
Где находился мне повелевавший
,
Другой рассказ, иссеченный в стене;
Я стал напротив, обойдя поэта,
Чтобы глазам он был открыт вполне.
Изображало изваянье это,
Как на волах святой ковчег везут,
Ужасный тем, кто не блюдет запрета.
И на семь хоров разделенный люд
Мои два чувства вовлекал в раздоры;
Слух скажет: «Нет», а зренье: «Да, поют».
Как и о дыме ладанном, который
Там был изображен, глаз и ноздря
О «да» и «нет» вели друг с другом споры.
А впереди священного ларя
Смиренный Псалмопевец, пляс творящий,
И больше был, и меньше был царя.
Мелхола, изваянная смотрящей
Напротив из окна больших палат,
Имела облик гневной и скорбящей.[665]
Я двинулся, чтобы насытить взгляд
Другою повестью, которой вправо,
Вслед за Мелхолой, продолжался ряд.
Там возвещалась истинная слава
Того владыки римлян, чьи дела
Григорий обессмертил величаво.[666]
Вдовица, ухватясь за удила,
Молила императора Траяна
И слезы, сокрушенная, лила.
От всадников тесна была поляна,
И в золоте колеблемых знамен
Орлы парили, кесарю охрана.
Окружена людьми со всех сторон,
Несчастная звала с тоской во взоре:
«Мой сын убит, он должен быть отмщен!»
И кесарь ей: «Повремени, я вскоре
Вернусь». – «А вдруг, – вдовица говорит,
Как всякий тот, кого торопит горе, –
Ты не вернешься?» Он же ей: «Отмстит
Преемник мой». А та: «Не оправданье –
Когда другой добро за нас творит».
И он: «Утешься! Чтя мое призванье,
Я не уйду, не сотворив суда.
Так требуют мой долг и состраданье».[667]
Кто нового не видел никогда,[668]
Тот создал чудо этой речи зримой,
Немыслимой для смертного труда.
Пока мой взор впивал, неутомимый,
Смирение всех этих душ людских,
Все, что изваял мастер несравнимый,
«Оттуда к нам, но шаг их очень тих, –
Шепнул поэт, – идет толпа густая;
Путь к высоте узнаем мы у них».
Мои глаза, которые, взирая,
Пленялись созерцаньем новизны,
К нему метнулись, мига не теряя.
Читатель, да не будут смущены
Твоей души благие помышленья
Тем, как господь взымает долг с вины.
Подумай не о тягости мученья,
А о конце, о том, что крайний час
Для худших мук – час грозного решенья.[669]
Я начал так: «То, что идет на нас,
И на людей по виду непохоже,
А что идет – не различает глаз».
И он в ответ: «Едва ль есть кара строже,
И ею так придавлены они,
Что я и сам сперва не понял тоже.
Но присмотрись и зреньем расчлени,
Что движется под этими камнями:
Как бьют они самих себя, взгляни!»
О христиане, гордые сердцами,
Несчастные, чьи тусклые умы
Уводят вас попятными путями!
Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетленный,
На божий суд взлетающий из тьмы!
Чего возносится ваш дух надменный,
Коль сами вы не разнитесь ничуть
От плоти червяка несовершенной?
Как если истукан какой-нибудь,
Чтоб крыше иль навесу дать опору,
Колени, скрючась, упирает в грудь
И мнимой болью причиняет взору
Прямую боль; так, наклонясь вперед,
И эти люди обходили гору.
Кто легче нес, а кто тяжеле гнет,
И так, согбенный, двигался по краю;
Но с виду терпеливейший и тот
Как бы взывал в слезах: «Изнемогаю!»
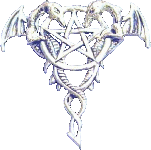
Поиск по сайту: