 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Песнь четвертая. Первое небо – Луна (продолжение)
|
Читайте также: |
Первое небо – Луна (продолжение)
Меж двух равно манящих явств, свободный
В их выборе к зубам бы не поднес
Ни одного и умер бы голодный;
Так агнец медлил бы меж двух угроз
Прожорливых волков, равно страшимый;
Так медлил бы меж двух оленей пес.
И то, что я молчал, равно томимый
Сомненьями, счесть ни добром, ни злом
Нельзя, раз это путь необходимый.
Так я молчал; но на лице моем
Желанье, как и сам вопрос, сквозило
Жарчей, чем сказанное языком.
Но Беатриче, вроде Даниила,
Кем был смирен Навуходоносор,
Когда его свирепость ослепила,[1119]
Сказала: «Вижу, что возник раздор
В твоих желаньях, и, теснясь в неволе,
Раздумья тщетно рвутся на простор.
Ты мыслишь: «Раз я стоек в доброй воле,
То как насилье нанесет урон
Моей заслуге хоть в малейшей доле?»
Еще и тем сомненьем ты смущен,
Не взносятся ли души в самом деле
Обратно к звездам, как учил Платон.[1120]
По-равному твое стесняют velle[1121]
Вопросы эти; обращаясь к ним,
Сперва коснусь того, чей яд тяжеле.
Всех глубже вбожествленный[1122] серафим
И Моисей и Самуил пророки
Иль Иоанн, – он может быть любым,[1123] –
Мария – твердью все равновысоки
Тем духам,[1124] что тебе являлись тут,
И бытия их не иные сроки;[1125]
Все красят первый круг[1126] и там живут
В неравной неге, ибо в разной мере
Предвечных уст они дыханье пьют.
И здесь они предстали не как в сфере,
Для них назначенной, а чтоб явить
Разностепенность высшей на примере.
Так с вашей мыслью должно говорить,
Лишь в ощутимом черплющей познанье,
Чтоб разуму затем его вручить.
К природе вашей снисходя, Писанье
О божией деснице говорит
И о стопах, вводя иносказанье;
И Гавриила в человечий вид,
И Михаила церковь облекает,
Как и того, кем исцелен Товит.[1127]
То, что Тимей[1128] о душах утверждает,
Несходно с тем, что здесь дано узнать,
Затем что он как будто впрямь считает,
Что всякая душа взойдет опять
К своей звезде, с которой связь порвала,
Ниспосланная тело оживлять.
Но может быть – здесь мысль походит мало
На то, что выразил словесный звук;
Тогда над ней смеяться не пристало.
Так, возвращая светам этих дуг
Честь и позор влияний, может статься,
Он в долю правды направлял бы лук.[1129]
Поняв его превратно, заблуждаться
Пошел почти весь мир, и так тогда
Юпитер, Марс, Меркурий стали зваться.[1130]
В другом твоем сомнении[1131] вреда
Гораздо меньше; с ним пребудешь здравым
И не собьешься с моего следа.
Что наше правосудие неправым
Казаться может взору смертных, в том
Путь к вере, а не к ересям лукавым.
Но так как человеческим умом
Глубины этой правды постижимы,
Твое желанье утолю во всем.
Раз только там насилье, где теснимый
Насильнику не помогал ничуть,
То эти души им не извинимы;
Затем что волю силой не задуть;
Она, как пламя, борется упорно,
Хотя б его сто раз насильно гнуть.
А если в чем-либо она покорна,
То вторит силе; так и эти вот,
Хоть в божий дом могли уйти повторно.
Будь воля их тот целостный оплот,
Когда Лаврентий[1132] не встает с решетки
Или суровый Муций руку жжет,[1133] –
Освободясь, они тот путь короткий,
Где их влекли, прошли бы сами вспять;
Но те примеры – редкие находки.
Так, если точно речь мою понять,
Исчез вопрос, который, возникая,
Тебе и дальше мог бы докучать.
Но вот теснина предстает другая,
И здесь тебе вовеки одному
Не выбраться; падешь, изнемогая.
Как я внушала, твоему уму,
Слова святого никогда не лживы:
От Первой Правды не уйти ему.
Слова Пиккарды, стало быть, правдивы,
Что дух Костанцы жаждал покрывал,
Моим же как бы противоречивы.
Ты знаешь, брат, сколь часто мир видал,
Что человек, пред чем-нибудь робея,
Свершает то, чего бы не желал;
Так Алкмеон[1134], ослушаться не смея
Родителя, родную мать убил
И превратился, зла страшась, в злодея.
Здесь, как ты сам, надеюсь, рассудил,
Насилье слито с волей,[1135] и такого
Не извинить, кто этим прегрешил.
По сути, воля не желает злого,
Но с ним мирится, ибо ей страшней
Стать жертвою чего-либо иного.
Пиккapдa мыслит в повести своей
О чистой воле, той, что вне упрека;
Я – о другой;[1136] мы обе правы с ней».
Таков был плеск священного потока,
Который от верховий правды шел;
Он обе жажды утолил глубоко.
«Небесная, – тогда я речь повел, –
Любимая Вселюбящего, светит,
Живит теплом и влагой ваш глагол.
Таких глубин мой дух в себе не встретит,
Чтоб дар за дар воздать решился он;
Пусть тот, кто зрящ и властен, вам ответит.
Я вижу, что вовек не утолен
Наш разум, если Правдой непреложной,
Вне коей правды нет, не озарен.
В ней он покоится, как зверь берложный,
Едва дойдя; и он всегда дойдет, –
Иначе все стремления ничтожны.
От них у корня истины встает
Росток сомненья; так природа властно
С холма на холм ведет нас до высот.
Вот что дает мне смелость, манит страстно
Вас, госпожа, почтительно спросить
О том, что для меня еще неясно.
Я знать хочу, возможно ль возместить
Разрыв обета новыми делами
И груз их на весы к вам положить».
Она такими дивными глазами
Огонь любви метнула на меня,
Что веки у меня поникли сами,
И я себя утратил, взор склоня.
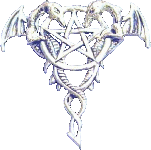
Песнь пятая
Первое небо – Луна (окончание) – Второе небо – Меркурий – Честолюбивые деятели
Когда мой облик пред тобою блещет
И свет любви не по-земному льет,
Так, что твой взор, не выдержав, трепещет,
Не удивляйся; это лишь растет
Могущественность зренья и, вскрывая,
Во вскрытом благе движется вперед.
Уже я вижу ясно, как, сияя,
В уме твоем зажегся вечный свет,
Который любят, на него взирая.

И если вас влечет другой предмет,
То он всего лишь – восприятий ложно
Того же света отраженный след.
Ты хочешь знать, чем равноценным можно
Обещанные заменить дела,
Чтобы душа почила бестревожно».
Так Беатриче в эту песнь вошла
И продолжала слова ход священный,
Чтоб речь ее непрерванной текла:
«Превысший дар создателя вселенной,
Его щедроте больше всех сродни
И для него же самый драгоценный, –
Свобода воли, коей искони
Разумные создания причастны,
Без исключенья все и лишь они.
Отсюда ты получишь вывод ясный,
Что значит дать обет, – конечно, там,
Где бог согласен, если мы согласны.
Бог обязаться дозволяет нам,
И этот клад,[1137] такой, как я сказала,
Себя ему приносит в жертву сам.
Где ценность, что его бы заменяла?
А в отданном ты больше не волен,
И жертвовать чужое – не пристало.
Ты в основном отныне утвержден;
Но так как церковь знает разрешенья,[1138]
С чем как бы спорит сказанный закон,
Не покидай стола без замедленья:
Кусок, который съел ты, был тугим
И требует подмоги для сваренья.
Открой же разум свой словам моим
И в нем замкни их; исчезает вскоре
То, что, услышав, мы не затвердим.
Две стороны мы видим при разборе
Подобных жертв: одну мы видим в том,
Чем жертвуют; другую – в договоре.
Последний обязателен во всем,
Пока не выполнен, как изъяснялось
Уже и выше точным языком.
Вот почему евреям полагалось, –
Ты помнишь, – жертвовать из своего,
Хоть жертва иногда и заменялась.
Зато второе, то есть существо,
Бывает и таким, что есть пределы,
В которых можно изменить его.
Но бремя плеч своих и самый смелый
Менять не смеет и обязан несть,
Пока недвижны желтый ключ и белый.[1139]
Да и обмен нелепым надо счесть,
Когда предмет, имевшийся доселе,
Не входит в новый, как четыре в шесть.[1140]
А если ценность – всех других тяжело
И всякой чаши книзу тянет край,
Ее ничем не возместить на деле.
Своим обетом, смертный, не играй!
Будь стоек, но не обещайся слепо,
Как первый дар принесший Иеффай[1141];
Он не сказал: «Я поступил нелепо!»,
А согрешил, свершая. В тот же ряд
Вождь греков стал, безумный столь свирепо,
Что вместе с Ифигенией скорбят
Глупец и мудрый, все, кому случится
Услышать про чудовищный обряд.[1142]
О христиане, полно торопиться,
Лететь, как перья, всем ветрам вослед!
Не думайте любой водой омыться!
У вас есть Ветхий, Новый есть завет,
И пастырь церкви вас всегда наставит;
Вот путь спасенья, и другого нет.
А если вами злая алчность правит,[1143]
Так вы же люди, а не скот тупой,
И вас меж вас еврей да не бесславит!
Не будьте, как ягненок молодой,
Который, бросив мать, беды не чуя,
По простоте играет сам с собой!»
Так Беатриче мне, как здесь пишу я;
Потом туда, где мир всего живей,[1144]
Вновь обратила взоры, вся взыскуя.
Ее безмолвье, чудный блеск очей
Лишили слов мой жадный ум, где зрели
Опять вопросы к госпоже моей.
И как стрела спешит коснуться цели
Скорее, чем затихнет тетива,
Так ко второму царству[1145] мы летели.
Такая радость в ней зажглась, едва
Тот светоч[1146] нас объял, что озарилась
Сама планета светом торжества.
И раз звезда, смеясь, преобразилась,
То как же – я, чье естество[1147] всегда
Легко переменяющимся мнилось?
Как из глубин прозрачного пруда
К тому, что тонет, стая рыб стремится,
Когда им в этом чудится еда,
Так видел я – несчетность блесков мчится
Навстречу нам, и в каждом клич звучал:
«Вот кем любовь для нас обогатится!»
И чуть один к нам ближе подступал,
То виделось, как все в нем ликовало,
По зареву, которым он сиял.
Суди, читатель: оборвись начало
На этом, как бы тягостно тебе
Дальнейшей повести недоставало;
И ты поймешь, как мне об их судьбе
Хотелось внять правдивые глаголы,
Едва мой взгляд воспринял их в себе.
«Благорожденный, ты, кому престолы
Всевечной славы видеть предстоит,
Пока не кончен труд войны[1148] тяжелый, –
Тот свет, который в небесах разлит,
Пылает в нас; поэтому, желая
Про нас узнать, ты будешь вволю сыт».
Так молвила одна мне тень благая,
А Беатриче: «Смело говори
И слушай с верой, как богам внимая!»
«Я вижу, как гнездишься ты внутри
Своих лучей и как их льешь глазами,
Ликующими пламенней зари.
Но кто ты, дух достойный, и пред нами
Зачем предстал в той сфере, чье чело
От смертных скрыто чуждыми лучами?»[1149]
Так я сказал сиявшему светло,
Тому, кто речь держал мне; и сиянье
Его еще лучистей облекло.
Как солнце, чье чрезмерное сверканье
Его же застит, если жар пробил
Смягчающих паров напластованье,
Так он, ликуя, от меня укрыл
Священный лик среди его же света
И, замкнут в нем, со мной заговорил,
Как будет в следующей песни спето.
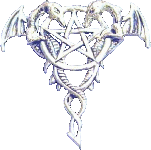
Песнь шестая
Второе небо – Меркурий (продолжение)
С пор как взмыл, послушный Константину,
Орел противу звезд, которым вслед
И Он встарь парил за тем, кто взял Лавину,
Господня птица двести с лишним лет
На рубеже Европы пребывала,
Близ гор, с которых облетела свет;
И тень священных крыл распростирала
На мир, который был во власть ей дан,
И там, из длани в длань, к моей ниспала.[1150]
Был кесарь я, теперь – Юстиниан[1151];
Я, Первою Любовью[1152] вдохновленный,
В законах всякий устранил изъян.
Я верил, в труд еще не погруженный,
Что естество в Христе одно, не два,
Такою верой удовлетворенный.
Но Агапит[1153], всех пастырей глава,
Мне свой урок преподал благодатный
В той вере, что единственно права.
Я внял ему; теперь мне так понятны
Его слова, как твоему уму
В противоречье ложь и правда внятны.
Я стал ступать, как церковь; потому
И бог меня отметил, мне внушая
Высокий труд;[1154] я предался ему,
Оружье Велисарию[1155] вверяя,
Которого господь в боях вознес,
От ратных дел меня освобождая.
Таков ответ на первый твой вопрос;
Но надо, чтоб, об этом повествуя,
Еще немного слов я произнес,
Всю правоту[1156] тебе живописуя
Тех, кто подвигся на священный стяг,[1157]
Его присвоив или с ним враждуя.[1158]
Взгляни, каким величьем всякий шаг
Его сиял; чтоб он владел державой,
Паллант[1159] всех прежде кровию иссяк.
Ты знаешь, как он в Альбе[1160] величавой
Три века ждал, чтоб на ее полях
Три против трех вступили в бой кровавый;[1161]
И что он сделал при семи царях,
От скорби жен сабинских до печали
Лукреции, в соседях сея страх;[1162]
Что сделал он, когда его вздымали
На Бренна и на Пирра[1163] и подряд
Властителей и веча покоряли, –
За что косматый Квинций, и Торкват,[1164]
И Деции, и Фабии[1165] доныне
Прославлены, и я почтить их рад.
Он ниспроверг арабов в их гордыне,
Вслед Ганнибалу миновавших склон,
Откуда, По, ты держишь путь к равнине.[1166]
Он видел, как Помпей и Сципион[1167]
Повиты юной славой[1168] и крушима
Вершина, под которой ты рожден.[1169]
Пока то время близилось незримо,
Когда свой облик твердь земле дала,[1170]
Им Цезарь овладел, по воле Рима.
От Вара к Рейну[1171] про его дела
Спроси волну Изары, Эры, Сенны[1172]
И всех долин, что Рона приняла.
А что он сделал, выйдя из Равенны
И минув Рубикон[1173], – то был полет,
Ни словом, ни пером не изреченный.
Он двинул на Испанию поход;
Затем к Дураццо; и в Фарсал вонзился,
Исторгнув стон у жарких Нильских вод;[1174]
Антандр и Симоэнт, где встарь гнездился,
Увидел вновь, и Гекторов курган,[1175]
И вновь, на горе Птолемею,[1176] взвился.
На Юбу[1177] пал, как грозовой таран,
И вновь пошел на запад ваш, где к брани
Опять взывали трубы помпеян.[1178]
О том, чем был он в следующей длани,[1179]
Брут лает с Кассием в Аду,[1180] скорбят
Перузий с Мутиной, полны стенаний.[1181]
И до сих пор отчаяньем объят
Дух Клеопатры, спасшейся напрасно,
Чтоб смерть ей дал змеиный черный яд.[1182]
Он долетел туда, где море красно;[1183]
Он подарил земле такой покой,
Что Янов храм был заперт повсечасно.[1184]
Но все, что стяг, превозносимый мной,
Свершил дотоле и свершил в грядущем
Для подданной ему страны земной, –
Мрак и ничто, когда умом нелгущим
И ясным оком взглянем на него
При третьем кесаре,[1185] его несущем.
Живая Правда, в длани у того,
Ему внушила славный долг – сурово
Исполнить мщенье гнева своего.
Теперь дивись, мое услышав слово:
Он с Титом вновь пошел и отомстил
За отомщение греха былого.[1186]
Когда же лангобардский зуб язвил
Святую церковь, под его крылами
Великий Карл, разя, ее укрыл.[1187]
Суди же сам о тех, кто с их грехами
Помянут мной,[1188] суди об их делах,
Первопричине всех несчастий с вами.
Тот – всенародный стяг втоптал во прах
Для желтых лилий,[1189] тот – себе присвоил;
Чей хуже грех – не взвесишь на весах.
Уж пусть бы гибеллин себе устроил
Особый стяг! А этот – не для тех,
Кто справедливость и его – раздвоил!
И гвельфам нет надежды на успех
С их новым Карлом;[1190] львы крупней ходили,
А эти когти с них сдирали мех!
Уже нередко дети слезы лили
За грех отца; и люди пусть не ждут,
Что бог покинет герб свой ради лилий!
А эта малая звезда – приют
Тех душ, которые, стяжать желая
Хвалу и честь, несли усердный труд.
И если цель желаний – лишь такая
И верная дорога им чужда,
То к небу луч любви восходит, тая.
Но в том – часть нашей радости, что мзда
Нам по заслугам нашим воздается,
Не меньше и не больше никогда.
И в этом так отрадно познается
Живая Правда, что вовеки взор
К какому-либо злу не обернется.
Различьем звуков гармоничен хор;
Различье высей в нашей жизни ясной –
Гармонией наполнило простор.
И здесь внутри жемчужины[1191] прекрасной
Сияет свет Ромео, чьи труды
Награждены неправдой столь ужасной.
Но провансальцам горестны плоды
Их происков; и тот вкусит мытарства,
Кому чужая доблесть злей беды.
Рамондо Берингьер четыре царства
Дал дочерям; а ведал этим всем
Ромео, скромный странник, враг коварства.
И все же, наущенный кое-кем,
О нем, безвинном, он повел дознанье;
Тот на десять представил пять и семь.[1192]
И, нищ и древен, сам ушел в изгнанье;
Знай только мир, что в сердце он таил,
За кусом кус прося на пропитанье, –
Его хваля, он громче бы хвалил!»[1193]
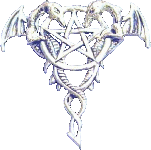
Песнь седьмая
Второе небо – Меркурий (окончание)
Osanna, sanctus Deus sabaoth,
Superillustrans claritate tua
Felices ignes horum malacoth!»[1194]
Так видел я поющей сущность[1195] ту
И как она под свой напев поплыла,
Двойного света движа красоту.
Она себя с другими в пляске слила,
И, словно стаю мчащихся огней,
Внезапное пространство их укрыло.
Колеблясь, я: «Скажи, скажи же ей, –
Твердил себе. – Ты, жаждой опаленный,
Скажи об этом госпоже твоей!»
Но даже в БЕ и в ИЧЕ[1196] приученный
Святыню чтить, я, голову клоня,
Поник, как человек в истоме сонной.
Она, таким не потерпев меня,
Сказала, улыбнувшись мне так чудно,
Что счастлив будешь посреди огня:
«Как я сужу, – а мне понять нетрудно, –
Ты тем смущен, что праведная месть
Быть может отомщенной правосудно.[1197]
Твои сомненья мне легко расплесть;
А ты внимай, и то, чего не ведал,
В моих словах ты будешь рад обресть.
За то, что тот, кто не рождался,[1198] не дал
Связать свой произвол, себе на зло, –
Прокляв себя, он всех проклятью предал;
И человечество больным слегло
На долгие века во тьме растленной,
Пока господне Слово[1199] не сошло
В мир, где природу, от творца вселенной
Отпавшую, оно слило с собой
Могуществом Любви неизреченной.
На то, что я скажу, глаза открой!
Была природа эта, с ним слитая,
Как в миг созданья, чистой и благой;
Но все же – тою, что обитель Рая
Утратила, в преступной слепоте
Путь истины и жизни презирая.
Поэтому и кара на кресте,
Свершаясь над природой восприятой,
Была превыше всех по правоте;
Но также и неправеднейшей платой,
Когда мы взглянем, с чьим лицом слилась
Природа эта и кто был распятый.
Так эта смерть, в последствиях делясь,
И бога, и евреев утолила:
Раскрылось небо, и земля встряслась.
И я тебе отныне разъяснила,
Как справедливость праведным судом
За праведное мщенье отомстила.[1200]
Но только вновь твой ум таким узлом,
За мыслью мысль, обвился многократно,
Что ждет свободы и томится в нем.
Ты говоришь: «Мне это все понятно;
Но почему господь для нас избрал
Лишь этот путь спасенья, мне невнятно».
Никто из тех, мой брат, не проникал
Очами в тайну этого решенья,
Чей дух в огне любви не возмужал.
Здесь многие пытают силу зренья,
Но различают мало; потому
Скажу, чем вызван этот путь спасенья.
Господня благость, отметая тьму,
Горит в самой себе и так искрится,
Что вечные красоты льет всему.
Все то, что прямо от нее струится,[1201]
Пребудет вечно, ибо не прейдет
Ее печать, когда она ложится.
Все то, что прямо от нее течет,
Всецело вольно, ибо то свободно,
Что новых сил[1202] не ощущает гнет.
Что ей сродней, то больше ей угодно;
Священный жар, повсюду излучен,
Живее в том, что более с ним сходно.
И человек всем этим наделен;[1203]
Но при утрате хоть единой доли
Он благородства своего лишен.
Один лишь грех его лишает воли,
Лишая сходства с Истинным Добром,
Которым он не озаряем боле.
Низверженный в достоинстве своем,
Он встать не может, не восполнив счета
Возмездием за наслажденье злом.
Природа ваша, согрешая tota[1204]
В своем зерне,[1205] утратила, упав,
Свои дары и райские ворота;
И не могла вернуть старинных прав,
Как строгое покажет рассужденье,
Тот или этот брод не миновав:
Иль чтоб господь ей даровал прощенье
Из милости; иль чтобы смертный сам
Мог искупить свое грехопаденье.
Теперь направь глаза ко глубинам
Предвечного совета и вниманьем
Усиленно прильни к мои словам!
Сам человек достойным воздаяньем
Спасти себя не мог, лишенный сил
Принизиться настолько послушаньем,
Насколько вознестись, ослушный, мнил;
Вот почему своими он делами
Себя бы никогда не искупил.
Был должен бог, раз не могли вы сами,
К всецелой жизни возвратить людей,
Будь то одним, будь то двумя путями.[1206]
Но делателю дело тем милей,
Чем более, из сердца источая,
В него вложил он благости своей;
И благость божья, в мире разлитая,
Тем и другим направилась путем,
Вас к прежним высям вознести желая.
Между последней тьмой и первым днем
Величественней не было деянья
И не свершится впредь ни на одном.[1207]
Бог, снизошедший до самоотданья,
Щедрее вам помог себя спасти,
Чем милостью простого оправданья;
И были бы закрыты все пути
Для правосудья, если б сын господень
Не принял униженья во плоти.
Чтоб ты от всех сомнений был свободен,
Добавлю поясненье,[1208] и тогда
Ты зоркостью со мною станешь сходен.
Ты говоришь: «И пламя, и вода,
И воздух, и земля, и их смешенья,
Придя в истленье, гибнут без следа.
А это ведь, однако же, творенья!
И если речь твоя была верна,
Им надо быть избавленным от тленья».
Брат! Ангелы и чистая страна,
Где ты сейчас, – я так бы изложила, –
В их совершенстве созданы сполна.[1209]
И те стихии, что ты назвал было,
И сложенное ими естество
Образовала созданная сила.
Сотворены[1210] само их вещество
И сила тех творящих излучений,
Что льют светила, движась вкруг него.
Душа животных и душа растений
Из свойственной среды извлечены
Лучами и движеньем звездной сени.
А ваши жизни в вас вдохновлены
Всевышней благостью и к ней всецело,
В нее влюбленные, устремлены.
На этом основать ты можешь смело
И ваше воскресенье, если ты
Припомнишь, как творилось ваше тело
И творенье прародительской четы».
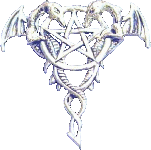
Песнь восьмая
Третье небо – Венера – Любвеобильные
В погибшем мире[1211] веровать привыкли,
Что излученья буйной страсти льет –
Киприда, движась в третьем эпицикле;[1212]
И воздавал не только ей почет
Обетов, жертв и песенного звона
В былом неведенье былой народ,
Но чтились вместе с ней, как мать – Диона,
И Купидон – как сын; и басня шла,
Что на руки его брала Дидона.[1213]

Той, кем я начал, названа была
Звезда, которая взирает страстно
На солнце то вдогонку, то с чела.[1214]
Как мы туда взлетели, мне неясно;
Но что мы – в ней, уверило меня
Лицо вожатой, став вдвойне прекрасно.
Как различимы искры средь огня
Иль голос в голосе, когда в движенье
Придет второй, а первый ждет, звеня,
Так в этом свете видел я круженье
Других светил, и разный бег их мчал,
Как, верно, разно вечное их зренье.[1215]
От мерзлой тучи ветер не слетал
Настолько быстрый, зримый иль незримый,
Чтоб он не показался тих и вял
В сравненье с тем, как были к нам стремимы
Святые светы, покидая пляс,
Возникший там, где реют серафимы.[1216]
Из глуби тех, кто был вблизи от нас,
«Осанна» так звучала, что томился
По этим звукам я с тех пор не раз.
Потом один от прочих отделился
И начал так: «Мы все служить тебе
Спешим, чтоб ты о нас возвеселился.
В одном кругу, круженье и алчбе
Наш сонм с чредой Начал[1217] небесных мчится,
Которым ты сказал, в земной судьбе:
«Вы, чьей заботой третья твердь кружится»;[1218]
Мы так полны любви, что для тебя
Нам будет сладко и остановиться».
Мои глаза доверили себя
Глазам владычицы и, их ответом
Сомнение и робость истребя,
Вновь утолились этим щедрым светом,
И я: «Скажи мне, кто вы», – произнес,
Замкнув большое чувство в слове этом.
Как в мощи и в объеме он возрос
От радости, – чья сила умножала
Былую радость, – слыша мой вопрос!
И, став таким, он мне сказал: «Я мало
Жил в дельном мире;[1219] будь мой век продлен,
То многих бы грядущих зол не стало.
Я от тебя весельем утаен,
В лучах его сиянья незаметный,
Как червячок средь шелковых пелен.
Меня любил ты, с нежностью не тщетной:
Будь я в том мире, ты бы увидал
Не только лишь листву любви ответной.
Тот левый берег, где свой быстрый вал
Проносит, смешанная с Соргой, Рона,
Господства моего в грядущем ждал;[1220]
Ждал рог авзонский, где стоят Катона,
Гаэта, Бари, замкнуты в предел
От Верде к Тронто до морского лона.[1221]
И на челе моем уже блестел
Венец земли, где льется ток Дуная,[1222]
Когда в немецких долах отшумел;
Прекрасная Тринакрия, – вдоль края,
Где от Пахина уперся в Пелор
Залив, под Эвром стонущий, мгляная
Не от Тифея, а от серных гор,[1223] –
Ждала бы государей, мной рожденных
От Карла и Рудольфа, до сих пор,
Когда бы произвол, для угнетенных
Мучительный, Палермо не увлек
Вскричать: «Бей, бей!» – восстав на беззаконных.[1224]
И если бы мой брат предвидеть мог,
Он с каталонской жадной нищетою
Расстался бы, чтоб избежать тревог;[1225]
Ему пора бы, к своему покою,
Иль хоть другим, его груженый струг
Не загружать поклажею двойною:
Раз он, сын щедрого, на щедрость туг,
Ему хоть слуг иметь бы надлежало,
Которые не жадны класть в сундук».
«То ликованье, что во мне взыграло
От слов твоих, о господин мой, там,
Где всяких благ скончанье и начало,
Ты видишь, верю, как я вижу сам;
Оно мне тем милей; и тем дороже,
Что зримо вникшим в божество глазам.
Ты дал мне радость, дай мне ясность тоже;
Я тем смущен, услышав отзыв твой,
Что сладкое зерно столь горьким всхоже».[1226]
Так я; и он: «Вняв истине одной,
К тому, чем вызвано твое сомненье,
Ты станешь грудью, как стоишь спиной.
Тот, кто приводит в счастье и вращенье
Мир, где ты всходишь, в недрах этих тел
Преображает в силу провиденье.
Не только бытие предусмотрел
Для всех природ всесовершенный Разум,
Но вместе с ним и лучший их удел.
И этот лук,[1227] стреляя раз за разом,
Бьет точно, как предвидено стрельцом,
И как бы направляем метким глазом.
Будь иначе, твердь на пути твоем
Такие действия произвела бы,
Что был бы вместо творчества – разгром;
А это означало бы, что слабы
Умы, вращающие сонм светил,
И тот, чья мудрость их питать должна бы.
Ты хочешь, чтоб я ближе разъяснил?»
И я: «Не надо. Мыслить безрассудно,
Что б нужный труд природу утомил».
И он опять: «Скажи, мир жил бы скудно,
Не будь согражданином человек?»
«Да, – молвил я, – что доказать нетрудно».
«А им он был бы, если б не прибег
Для разных дел к многоразличью званий?
Нет, если правду ваш мудрец[1228] изрек».
И, в выводах дойдя до этой грани,
Он заключил: «Отсюда – испокон
Различны корни ваших содеяний:[1229]
В одном родится Ксеркс, в другом – Солон,
В ином – Мельхиседек, в ином – родитель
Того, кто пал, на крыльях вознесен.[1230]
Круговорот природы, впечатлитель
Мирского воска, свой блюдет устав,
Но он не поглядит, где чья обитель.[1231]
Вот почему еще в зерне Исав
Несходен с Яковом,[1232] отец Квирина
Так низок, что у Марса больше прав.[1233]
Рожденная природа заедино
С рождающими шла бы их путем,
Когда б не сила божьего почина.[1234]
Теперь ты к истине стоишь лицом.
Но чтоб ты знал, как мне с тобой отрадно,
Хочу, чтоб вывод был тебе плащом.[1235]
Природа, если к ней судьба нещадна,
Всегда, как и любой другой посев
На чуждой почве, смотрит неприглядно;
И если б мир, основы обозрев,
Внедренные природой, шел за нею,
Он стал бы лучше, в людях преуспев.
Вы тащите к церковному елею
Такого, кто родился меч нести,[1236]
А царство отдаете казнодею[1237];
И так ваш след сбивается с пути».
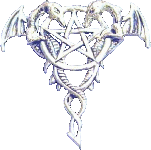
Песнь девятая
Третье небо – Венера (окончание)
Когда твой Карл, прекрасная Клеменца[1238],
Мне пролил свет, он, вскрыв мне, как вражда
Обманет некогда его младенца,[1239]
Сказал: «Молчи, и пусть кружат года!»
И я могу сказать лишь, что рыданья
Ждут тех, кто пожелает вам вреда.
И жизнь святого этого сиянья
Опять вернулась к Солнцу,[1240] им полна,
Как, в мере, им доступной, все созданья.
Вы, чья душа греховна и темна,
Как от него вас сердце отвратило,
И голова к тщете обращена?
И вот ко мне еще одно светило[1241]
Приблизилось и, озарясь вовне,
Являло волю сделать, что мне мило.
Взор Беатриче, устремлен ко мне,
В том, что она с просимым согласилась,
Меня, как прежде, убедил вполне.
«Дай, чтобы то, чего хочу, свершилось,
Блаженный дух, – сказал я, – мне явив,
Что мысль моя в тебе отобразилась».
Свет, новый для меня, на мой призыв,
Из недр своих, пред тем звучавших славой,
Сказал, как тот, кто щедрым быть счастлив:
«В Италии, растленной и лукавой,
Есть область от Риальто до вершин,
Нистекших Брентой и нистекших Пьявой;[1242]
И там есть невысокий холм[1243] один,
Откуда факел снизошел, грозою
Кругом бушуя по лицу равнин.[1244]
Единого он корня был со мною;
Куниццой я звалась и здесь горю
Как этой побежденная звездою.
Но, в радости, себя я не корю
Такой моей судьбой, хоть речи эти
Я не для вашей черни говорю.
Об этом драгоценном самоцвете,[1245]
Всех ближе к нам, везде молва идет;
И прежде чем умолкнуть ей на свете,
Упятерится этот сотый год:[1246]
Тех, чьи дела величьем пресловуты,
Вторая жизнь[1247] вослед за первой ждет.
В наш век о ней не думает замкнутый
Меж Адиче и Тальяменто[1248] люд
И, хоть избит, не тужит ни минуты.
Но падуанцы вскорости нальют
Другой воды в Виченцское болото,
Затем что долг народы не блюдут.[1249]
А там, где в Силе впал Каньян, есть кто-то,
Владычащий с подъятой головой,
Кому уже готовятся тенета.[1250]
И Фельтро оросит еще слезой
Грех мерзостного пастыря, столь черный,
Что в Мальту[1251] не вступали за такой.
Под кровь феррарцев нужен чан просторный,
И взвешивая, сколько унций в ней,
Устал бы, верно, весовщик упорный,
Когда свой дар любезный иерей
Преподнесет как честный враг крамолы;
Но этим там не удивишь людей.[1252]
Вверху есть зеркала (для вас – Престолы),
Откуда блещет нам судящий бог;
И эти наши истины глаголы».[1253]
Она умолкла; и я видеть мог,
Что мысль она к другому обратила,
Затем что прежний круг ее увлек.
Другая радость,[1254] чье величье было
Мне ведомо, всплыла, озарена,
Как лал, в который солнце луч вонзило.
Вверху весельем яркость рождена,
Как здесь – улыбка; а внизу мрачнеет
Тем больше тень, чем больше мысль грустна.[1255]
«Бог видит все, твое в нем зренье реет, –
Я молвил, – дух блаженный, и ничья
Мысль у тебя себя украсть не смеет.
Так что ж твой голос, небо напоя
Среди святых огней,[1256] чей хор кружится,
В шести крылах обличия тая,
Не даст моим желаньям утолиться?
Я упредить вопрос твой был бы рад,
Когда б, как ты в меня, в тебя мог влиться».
«Крупнейший дол, где волны бег свой мчат, –
Так отвечал он, – устремясь широко
Из моря, землю взявшего в обхват,
Меж розных берегов настоль глубоко
Уходит к солнцу, что, где прежде был
Край неба, там круг полдня видит око.[1257]
Я на прибрежье между Эбро жил
И Магрою, чей ток, уже у ската,
От Генуи Тоскану отделил.[1258]
Близки часы восхода и заката
В Буджее и в отечестве моем,[1259]
Согревшем кровью свой залив когда-то.[1260]
Среди людей, кому я был знаком,
Я звался Фолько; и как мной владело
Вот это небо, так я властен в нем;
Затем что не страстней была дочь Бела,
Сихея и Креусу оскорбив,[1261]
Чем я, пока пора не отлетела,
Ни родопеянка, с которой лжив
Был Демофонт,[1262] ни сам неодолимый
Алкид[1263], Иолу в сердце заключив.
Но здесь не скорбь, а радость обрели мы
Не о грехе, который позабыт,
А об Уме, чьей мыслью мы хранимы.
Здесь видят то искусство, что творит
С такой любовью, и глядят в Начало,
Чья благость к высям дольный мир стремит.
Но чтоб на все, что мысль твоя желала
Знать в этой сфере, ты унес ответ,
Последовать и дальше мне пристало.
Ты хочешь знать, кто в этот блеск одет,
Которого близ нас сверкает слава,
Как солнечный в прозрачных водах свет.
Так знай, что в нем покоится Раава[1264]
И, с нашим сонмом соединена,
Его увенчивает величаво.
И в это небо, где заострена
Тень мира вашего,[1265] из душ всех ране
В Христовой славе принята она.
Достойно, чтоб она среди сияний
Одной из твердей знаменьем была
Победы, добытой поднятьем дланей,[1266]
Затем что Иисусу[1267] помогла
Прославиться в Земле Обетованной,
Мысль о которой папе не мила.[1268]
Твоя отчизна, стебель окаянный
Того, кто первый богом пренебрег[1269]
И завистью наполнил мир пространный,
Растит и множит проклятый цветок,[1270]
Чьей прелестью с дороги овцы сбиты,
А пастырь волком стал в короткий срок.
С ним слово божье и отцы забыты,
И отдан Декреталиям весь пыл,[1271]
Заметный в том, чем их поля покрыты.[1272]
Он папе мил и кардиналам мил;
Их ум не озабочен Назаретом,
Куда раскинул крылья Гавриил.[1273]
Но Ватикан и чтимые всем светом
Святыни Рима, где кладбище тех,
Кто пал, Петровым следуя заветам,
Избудут вскоре любодейный грех».[1274]
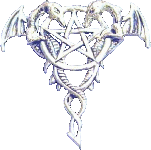
Песнь десятая
Четвертое небо – Солнце – Мудрецы. – Первый хоровод
Взирая на божественного Сына,
Дыша Любовью вечной, как и тот,
Невыразимая Первопричина
Все, что в пространстве и в уме течет,
Так стройно создала, что наслажденье
Невольно каждый, созерцая, пьет.
Так устреми со мной, читатель, зренье
К высоким дугам до узла того,
Где то и это встретилось движенье;[1275]
И полюбуйся там на мастерство
Художника, который, им плененный,
Очей не отрывает от него.
Взгляни, как там отходит круг наклонный,[1276]
Где движутся планеты и струят
Свой дар земле на зов ее исконный:
Когда бы не был этот путь покат,
Погибло бы небесных сил немало
И чуть не все, чем дельный мир богат;[1277]
А если б их стезя положе стала
Иль круче, то премногого опять
Внизу бы и вверху недоставало.
Итак, читатель, не спеши вставать,
Продумай то, чего я здесь касался,
И восхитишься, не успев устать.
Тебе я подал, чтоб ты сам питался,
Затем что полностью владеет мной
Предмет, который описать я взялся.
Первослуга природы,[1278] мир земной
Запечатлевший силою небесной
И мерящий лучами час дневной, –
С узлом вышепомянутым совместный,
По тем извоям совершал свой ход,
Где он все раньше льет нам свет чудесный.[1279]
И я был с ним,[1280] но самый этот взлет
Заметил лишь, как всякий замечает,
Что мысль пришла, когда она придет.
Так быстро Беатриче восхищает
От блага к лучшему, что ей вослед
Стремленье времени не поспевает.
Каким сияньем каждый был одет
Там, в недрах солнца, посещенных нами,
Раз отличает их не цвет, а свет!
Умом, искусством, нужными словами
Я беден, чтоб наглядный дать рассказ.
Пусть верят мне и жаждут видеть сами.
А что воображенье низко в нас
Для тех высот, дивиться вряд ли надо,
Затем что солнце есть предел для глаз.[1281]
Таков был блеск четвертого отряда
Семьи Отца, являющего ей
То, как он дышит и рождает чадо.[1282]
И Беатриче мне: «Благоговей
Пред Солнцем ангелов,[1283] до недр плотского
Тебя вознесшим милостью своей!»
Ничья душа не ведала такого
Святого рвенья и отдать свой пыл
Создателю так не была готова,
Как я, внимая, это ощутил;
И так моя любовь им поглощалась,
Что я о Беатриче позабыл.
Она, без гнева, только, улыбалась,
Но так сверкала радость глаз святых,
Что целостная мысль моя распалась.[1284]
Я был средь блесков мощных и живых,[1285]
Обвивших нас венцом, и песнь их слаще
Еще была, чем светел облик их;
Так дочь Латоны[1286] иногда блестящий
Наденет пояс, и, огнем сквозя,
Он светится во мгле, его держащей.
В дворце небес, где шла моя стезя,
Есть много столь прекрасных самоцветов,
Что их из царства унести нельзя;
Таким вот было пенье этих светов;
И кто туда подняться не крылат,
Тот от немого должен ждать ответов.
Когда певучих солнц горящий ряд,
Нас, неподвижных, обогнув трикраты,
Как звезды, к остьям близкие, кружат,
Остановился, как среди баллаты[1287],
Умолкнув, станет женщин череда
И ждет, чтоб отзвучал запев начатый,
В одном из них послышалось[1288]: «Когда
Луч милости, который возжигает
Неложную любовь, чтоб ей всегда
Расти с ним вместе, так в тебе сверкает,
Что вверх тебя ведет по ступеням,
С которых сшедший – вновь на них – ступает,
Тот, кто твоим бы отказал устам
В своем вине, не больше бы свободен
Был, чем поток, не льющийся к морям.
Ты хочешь знать, какими благороден
Цветами наш венок, сплетенный тут
Вкруг той, кем ты введен в чертог господень.
Я был одним из агнцев, что идут
За Домиником на пути богатом,[1289]
Где все, кто не собьется, тук найдут.[1290]
Тот, справа, был мне пестуном и братом;
Альбертом из Колоньи[1291] он звался,
А я звался Фомою Аквинатом.
Чтоб наша вязь тебе предстала вся,
Внимай, венец блаженный озирая
И взор вослед моим словам неся.
Вот этот пламень льет, не угасая,
Улыбка Грациана, кем стоят
И тот, и этот суд, к отраде Рая.[1292]
Другой, чьи рядом с ним лучи горят,
Был тем Петром, который, как однажды
Вдовица, храму подарил свой клад.[1293]
Тот, пятый блеск, прекраснее, чем каждый
Из нас, любовью вдохновлен такой,
Что мир о нем услышать полон жажды.
В нем – мощный ум, столь дивный глубиной,
Что, если истина – не заблужденье,
Такой мудрец не восставал второй.[1294]
За ним ты видишь светоча горенье,
Который, во плоти, провидеть мог
Природу ангелов и их служенье.[1295]
Поиск по сайту: